 Имя демона. «О трёхэтажных конструкциях» народного языка.
Имя демона. «О трёхэтажных конструкциях» народного языка.
А свидетельствует история о том, что мат, оказывается, и не такой уж нам родной, как принято сегодня считать.
Бранные слова, это не что иное, как имена демонов, с которыми в незапамятные времена по различным поводам «общались» наши языческие предки! Все слова русского мата имеют то же самое демоническое происхождение.
Далёкие предки произносили имена демонов с одной из двух целей: либо ублажить (принося при этом кровавые жертвы), либо напугать. В последнем случае к имени демона присоединялись другие бранные слова, поскольку целью человека, стремящегося отпугнуть его, было доказать демону, что по степени непотребства он ему способен дать сто очков вперёд и знается с нечистью посильнее и похуже него.
А что делает большинство современных людей? Они матерятся с ближними, порой самыми близкими людьми, или призывают древних демонов просто так, для красного словца. И между прочим с тем же результатом, что и пращуры, которые взывали ко Злу, чтобы наказать кого-то за серьёзные проступки, – призывают это Зло себе на голову изо дня в день, из года в год. В итоге получаем вначале неприятности мелкие, потом всё более крупные: со здоровьем, детьми, любимыми, наконец, просто попадаем в полосу хронического невезения…
Многие полагают, что мат – глубоко русская традиция. На самом деле сквернословие на Руси примерно до середины XIX века не только не было распространено даже в деревнях, но и очень долго являлось уголовно наказуемым! Ещё при царях Михаиле Фёдоровиче и Алексее Михайловиче на Руси выматерившегося человека подвергали публичной порке. А народная мудрость утверждала и утверждает, что в семье сквернослова нет мира, а сама склонность к матерщине всегда сопровождается и другими пороками – начиная алкоголизмом и кончая всевозможными формами бытовой агрессии. Доказывать эту мысль не надо – достаточно оглядеться по сторонам. Подобная точка зрения сформировалась, укрепилась и долгое время существовала в виде традиции, в течении первых десятилетий после Крещения Руси и, следовательно, связана с церковью.
Сквернословие – обращение к Сатане и скрытое его прославление.
Ругань противоестественна. Хотя её и можно считать своего рода применением языка, причём достаточно распространённым (бранные слова и выражения присутствуют, наверное, во всех языках мира), по своей сути она противоречит всему языку. Брань и язык носят задачи прямо противоположные. Цель языка состоит в объединении людей. Люди говорят между собой, чтобы лучше понять друг друга. Без этого невозможно действовать и жить сообща. У ругани цель иная: её задача – не сблизить, а наоборот, разобщить людей, провести между ними границу. Бранясь, человек показывает другому, что тот зря претендует на понимание. Он должен держать дистанцию, знать своё место. И место это может оказаться самым ничтожным.
Исходной точкой возникновения ругани можно считать схватку с врагом. Брань – это не только обмен ругательствами, но и битва, сражение. И сегодня «поле боя» и «поле брани» для нас синонимы. В древности, встречаясь с противником лицом к лицу, человек не сразу пускал в дело оружие. Сначала вместо оружия идут в дело слова. Если поединщики говорят на одном языке, они могут хвалиться своей сноровкой и силой, пытаясь запугать врага и тем стяжать себе психологическое преимущество. Оставить похвальбу противника без комментариев – значит признать, что он тебя превосходит, проиграть словесную схватку («базар»). Отвечая, можно похвалиться самому, а можно свести его хвастовство на нет, опрокинув слова словами.
Насмешка, шаржирование имеет непосредственное отношение к ругани. «Поругаться» изначально значило «надсмеяться». Обидные слова (хам, очкарик, ботаник, козёл, бык, свинья, и тому подобные) – это тоже ругательства.
Назвав человека, к примеру, «свиньёй» – это в тайне желать видеть в человеке свинью.
Можно ведь намекнуть, сказать как-то без ругательств, найти альтернативу ругани.
Назвать человека по его недостатку (например, обращение к человеку в очках – «эй ты, очки!») – обидчику – смешно, жертве – обидно. А ведь, в подобную ситуацию может попасть и обидчик!
В уличной сутолоке, назвав человека хамом, можно не заметить, что ты ругнулся. На самом же деле именем хама мы уподобили жертву нашего обращения библейскому персонажу, прославившемуся себя не лучшим образом.
Вопрос лишь в том, что люди ожидают от слов.
Если допустить, что слова могут изменять мир, не стоит их высказывать так легко, – ведь придётся отвечать за каждое действие вылетевшего слова. Если слова имеют силу действия («магия слов»), можно превратить человека словом в свинью. Впрочем, и в обыденной жизни, сея брань и рождая обиду, бранчливый способствует освинению мира. Некоторые же формы брани прямо построены на ожидании эффекта от сказанных слов.
По существу, такая брань представляет собой магические формулы, предназначенные творить зло. Их структура включает в себя обращение к человеку и пожелание несчастий, которые должны с ним случиться.
Когда эти формулы возникли, люди верили в их силу, поэтому, скорее всего, немногие пользовались ими. Тот, кто прибегал к ним часто, был колдуном или ведьмой. Если же такую формулу («заклинание») произносил обычный человек, то это было вызвано тем, что выходит за пределы обыденной жизни, и поэтому неудивительно, что от такого события ждали последствий, способных потрясти мир или хотя бы перевернуть жизнь и погубить ненавистного человека.
Вкладывающий в проклятие свою душу этим делал её причастным злу, которое пророчил другому. Эта сторона проклятия, хорошо осознаваемая нашими предками, делала его особенно страшным. Проклиная, человек как бы подводил под своей жизнью черту, отдавая всё своё будущее той тёмной силе, которая взамен должна была сокрушить врага. Две жизни приносились на алтарь мести, человек срывался в бездну и увлекал в неё другого.
Сегодня острота переживания проклятия утрачена. Люди готовы призывать друг на друга разверзшиеся небеса по малейшему поводу, не замечая мистического характера произносимых ими слов. Некоторые магические формулы потеряли адресность и даже содержание, осталось лишь выражение некой угрозы: «да чтоб тебя!», – говорит человек, споткнувшись о торчащую из земли проволоку, и не замечает, что оказался на пороге проклятья.
Матерщина по своей структуре подобна проклятью, она тоже – магическая словесная формула. Матерная брань наиболее оскорбительна, когда не скрывает этой своей природы, когда она адресна и действительно направлена против конкретного человека. Но чаще брань прячет своё лицо.
На первый взгляд в мате нет ничего магического. Матерщина, как определяют её словари, – это просто слова определённого содержания. То, что речь человека может быть густо усеяна ими, не представляет из себя никакой загадки. Подобным же образом в языке существуют многие слова-паразиты.
Человек, не умеющий говорить связно, испытывает затруднения на стыке слов. То, что он хочет сказать, находится в его уме. Мысли сталкиваются одна с другой, не зная никакого порядка. Речь же требует, чтобы из этого хаоса человек вытянул – как нитку из пряжи – определённую последовательность слов. Речь линейна, нельзя сказать всё сразу, но только – одно за другим. К тому же от того, как выстроятся слова, зависит понятность сказанного. Речь должна соответствовать грамматической модели, принятой в языке. Профессиональный оратор не задумывается над этим, для него составляет проблема высказаться. Человек же, не привыкший говорить длинные речи, испытывает затруднение всякий раз, когда ему приходится что-то рассказывать. И в тот момент, когда у него на языке не оказывается нужного слова, с него соскальзывает слово-паразит, не давая речи оборваться молчанием. Но лучше промолчать, чем нести всякую чушь. Но прервать молчание, означает начать говорить заново, что требует большего расхода энергии, чем беспрерывное продолжение речи. Пустые слова, образуя мостик между словами, которые что-то значат, выполняют роль «смазки», сохраняют непрерывность речи и этим экономят говорящему силы.
Чаще всего в роли таких слов используются указательные частицы – «это», «вот», «значит». Помимо них, роль «смазки» играют и другие, начиная от общепринятого «ну», «э», «э-э-э-…», и кончая диалектическими и специфическими «дык» и т.п. Используемые в этом качестве, они не имеют за собой никакого значения, к тому же они, как правило, не велики по длине, что снижает затраты энергии, расходуемой впустую.
Матерные слова имеют совсем другую природу. Они принадлежат к разряду табуированных слов. «Табу» – слово полинезийского происхождения. В современном языке им легко могут назвать любой строгий запрет. Однако то, что для обозначения запрета, играющего значительную роль в архаических обществах, потребовалось особое слово, подсказывает, что здесь дело не только в строгости. Человек, нарушивший табу, подлежал наказанию, часто – смерти. Почему? Не потому, что он преступил установления общества, – это лишь внешняя сторона. Хотя табу и налагалось людьми, это были не просто люди. Это были вожди; право налагать и снимать табу определялось не самим авторитетом вождя, а тем, что создавало этот авторитет. В Полинезии вождь считался обладающим особой сверхъестественной силой – маной. Именно обладание маной и делало человека вождём. Всё, в чём по убеждению полинезийцев заключена мана, они считали святым. Ману можно было утратить, и чтобы этого не случилось как раз использовали табу, путём запретов регулирующее отношения человека и сверхъестественного. Таким образом, слово табу может быть использовано только в том случае, если обозначаемые этим словом запреты регулируют не человеческие отношения, а отношения человека с миром сверхъестественных сил.
(продолжение следует)
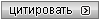
|